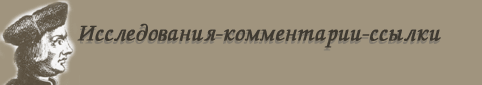
|
В.И. Гараджа ПОСТОЯНСТВО РАЗУМА (СВОБОДОМЫСЛИЕ ПЬЕТРО ПОМПОНАЦЦИ) Прометей
— ведь это философ, который, стремясь познать тайны.
Бога, терзаем постоянными заботами и размышлениями, не знает ни голода, ни жажды, не спит, не ест и не находит смерти; все смеются над ним и считают глупцом и святотатцем, его преследуют инквизиторы, и выставляют на посмешище толпе. Таковы-то выгоды философов, таковы их награды! П. Помпонацци. О фатуме, свободе воли и предопределении Философские трактаты Пьетро Помпонацци (1462— 1525), впервые публикуемые в русском переводе, написаны в первой четверти XVI столетия, но и поныне, как нам представляется, сохраняют жизненный интерес поднятые в них проблемы внерелигиозного обоснования нравственности, этического “самостоянья” человека без надежды на посмертное воздаяние, рационального, отвергающего воздействие сверхприродных сил объяснения таинственных и загадочных явлений. Живший в эпоху Высокого Возрождения, Пьетро Помпонацци никак не вписывается в привычный образ ренессансного “титана”, как его, будь то в положительном, будь то в резко отрицательном освещении, представляет современная историческая наука. Биография его проста, она похожа на послужной список: родился в Мантуе в богатой патрицианской семье, учился в Падуе, преподавал сперва в родном Падуанском университете, а последние годы жизни — в Болонье; дважды вдовел, был трижды женат, оставил двух дочерей. Жизнь его проходила в чтении лекций, в научных занятиях, в беседах с учениками. В эпоху великих открытий, смелых и увлекательных путешествий он не выезжал за пределы трех-четырех североитальянских городов, и уговорить его выбраться из Болоньи на диспут в соседнюю Модену стоило немалого труда. В эпоху зарождения экспериментального естествознания он оставался в рамках Аристотелевой натурфилософии. В эпоху блестящей гуманистической образованности он не только не знал греческого, но и приводил в ужас стилистов своей варварской смесью схоластической латыни и родного мантуанского диалекта. В эпоху войн и политических переворотов он лишь на время вынужденно прерывал чтение лекций, когда город переходил из рук в руки. Философские воззрения Пьетро Помпонацци складывались в русле схоластической университетской традиции. Правда, надо иметь в виду, что это были североитальянские университеты, где теологических факультетов не было, а кафедры богословия, разделенные между враждующими школами доминиканцев-томистов и францисканцев, следующих путем “тончайшего” доктора Иоанна Дунса Скота, не оказывали решающего влияния на ход философских дискуссий. Зато со времени зарождения философских школ там господствовало аверроистское свободомыслие, сложившееся под воздействием средневековой восточной мысли и натуралистического истолкования Аристотеля. Но университетская философская культура не могла оставаться в стороне от новых веяний гуманизма, расцветшего в соседних центрах, и прежде всего во Флоренции, от возрождения классической древности и нового учения о человеке. Пьетро Помпонацци обнаруживает в своих сочинениях достаточно глубокое знакомство с античной словесностью, превосходно знает творения корифеев флорентийской Платоновской академии — Марсилио Фичино и Джованни Пико делла Мирандолы, принимает во внимание и оспаривает их взгляды, а среди толкователей Дионисия Ареопагита почтительно выделяет французского платоника Жака Лефевра Д'Этапля. Разумеется, он верен традиции, а проще сказать, профессиональным обязанностям: преподаватель философии должен был толковать сочинения Стагирита, привлекая его авторитетнейших комментаторов — Авиценну (Ибн-Сину), Аверроэса, Фому Аквинского и других. Способ преподавания, формальный стиль изложения остаются традиционными: Помпонацци в своих лекциях и трактатах лишь доводит до филигранного совершенства унаследованную им от предшественников манеру развития мысли — с бесконечными вопросами, доводами и контраргументами, опровержениями и сомнениями. Но это была не утонченность стиля, а честность мысли: все возражения, не только реально выдвинутые, но и теоретически возможные, должны были быть полностью приведены и обоснованы, разобраны в опровергнуты. И в этих бесконечных спорах — с действительными или воображаемыми противниками, а более с самим собой — уже нельзя опереться на авторитет: “О, ты сказал, что это мнение Аристотеля! Скажу, что это так, но скажу и то, что Аристотель был человек и мог ошибаться”. Это не выпад против традиции, это мужественный отказ на эту традицию опереться, прикрыться и защититься ею, как он делал порою, обороняясь от нападок врагов, ссылаясь на то, что, согласно университетскому уставу, всего лишь толковая философию Аристотеля. И если в другом месте он признается, что его “страшит авторитет” столь серьезных мужей, как Боэций и Фома Аквинский, то страх этот потому лишь и провозглашен, что внутренне преодолен мыслителем. Примыкая к старой аверроистской традиции Падуанской школы, продолжая линию многочисленных комментариев к книге Аристотеля “О душе”, трактат Пьетро Помпонацци “О бессмертии души” решительно отличается от них уже тем, что в центре внимания мыслителя оказывается именно проблема личного бессмертия. Отрицание личного бессмертия лишь косвенно следовало из учения о едином интеллекте, но прямо ив провозглашалось. Само возникновение книги свидетельствовало о кризисе традиционного религиозного миросозерцания, о пересмотре нравственных ценностей. Средневековая мораль основывалась на учении о загробном воздаянии. Устранение этого важнейшего положения религии вело, по господствующим представлениям, к крушению всякой нравственности. В XIII веке францисканец Пьетро де Трабибуо писал: “Если нет иной жизни... дурак, кто совершает добродетельные поступки и воздерживается от страстей; дурак, кто не предается сладострастию, разврату, блуду в скверна, обжорству, мотовству и пьянству, алчности, грабежу, насилиям и иным порокам!” И два столетия спустя в своих страшных сомнениях (а что, если душа смертна — стоит ли тогда воздерживаться от греха?) признавался на страницах дневника флорентийский купец Джованни Морелли. В отрицании бессмертия души обвиняли римских академиков-эпикурейцев во главе с Каллимахом. Иногда из следствий выводили причину: нарушение господствующих нравственных норм объясняли неверием в бессмертие души, и тогда в атеисты попадали преступники, просто политические противники папства; отрицание бессмертия души—трудно сказать, насколько обоснованно,— приписывали и императору Фридриху II, и Сиджизмондо Малатесте. Во Флоренции ходила легенда об уговоре Марсилио Фичино с его другом Микеле Меркати: кто умрет раньше, тот даст знать оставшемуся в живых, бессмертна ли душа; однажды утром Меркати проснулся от стука копыт за окном и услышал возглас: “Микеле, это правда!” —в этот час скончался Фичино. Как во всякой легенде, и в этой заключена доля истины: бессмертие души было главной темой философствования Фичино (“О бессмертии души” — подзаголовок или часть заглавия его “Платоновского богословия”), и, возможно, что, даже уничтожив свои ранние эпикурейские трактаты, он так и не избавился от сомнений. В кругу Фичино в защиту бессмертия души выступили Карло Марсуппини, Никколо делла Луна, епископ Антонио Альи, Паоло Орландини. Вряд ли это были чисто риторические упражнения: очевидно, у веры в личное бессмертие были и противники. К выводам, изложенным в знаменитом трактате, Помпонацци пришел не сразу. Долгие годы он читал в Падуе и Болонье курс философии Аристотеля, одно время придерживался аверроистского ее толкования, полагал, что Комментатор из Кордовы верно передал мысль учителя. Но, чем дальше, тем большие сомнения овладевали профессором философии. Уже и это было внове: схоласты не слишком любили предаваться сомнениям, а еще менее того — делиться ими со слушателями. Между тем Перетто Мантуанец так завершал своп курсы: “Государи мои, вы окажетесь при больших сомнениях к концу, чем были вначале... Одно убедительное доказательство бессмертия разумной души я предпочел бы и папской власти, и всем богатствам мира... Я больше хотел бы получить одно доказательство бессмертия, чем тысячу тысяч лет быть повелителем мира...” Медлительность в формулировке окончательных выводов, бесконечно взвешиваемых в лекциях и беседах с друзьями и учениками, связана и со складом его характера. Помпонацци ничем не похож на своего почти сверстника, родившегося годом позже,— блистательного юношу Джованни Пико делла Мирандолу, в котором не без основания видят воплощение ренессансной культуры позднего Кваттроченто. Маленького роста, некрасивый, хотя и привлекавший к себе умы и сердца многочисленных учеников и почитателей, домосед Перетто во всем противостоит необычайно ярко одаренному, как сказали бы гуманисты, всеми благами Фортуны автору “Речи о достоинстве человека”. Не княжеская расточительность, а патриархальная домовитость, не любовные приключения, а законный брак, не гордый вызов на диспут в Рим всего ученого мира ради защиты девятисот тезисов, а многолетнее ежедневное чтение лекций, не ранний взлет, а длительное вызревание мысли: он начинает серьезные занятия философией в том возрасте, когда Джованни Пико преждевременно уходит из жизни. Впрочем, противостоят здесь не добродетельная посредственность яркой гениальности, а два равно необыкновенных и равно талантливых типа философа итальянского Возрождения. И прижизненная репутация, и позднейшая слава Перетто Мантуанского не уступают громкой известности графа Мирандолы. Помпонацци уже к началу XVI столетия становится общепризнанным главой перипатетической школы. Его сравнительно рано освобождают от “конкурента”: был в итальянских университетах такой небесполезный обычай — у каждого профессора обязательно должен был быть лектор-конкурент, читавший тот же самый лекционный куре параллельно, в то же самое время; студенты должны были — и имели возможность — выбирать. Чтение “без конкурента” быяо высшим знаком признания, и удостаивались его весьма и весьма немногие. Слушатели Помнонацци — и в Падуе, и в Болонье — разносили потом славу о нем по всей Италии и “за Альпы”, многие из них стали видными политическими и церковными деятелями Венецианской республики и папского Рима. По всей Европе распространились опасные для ортодоксии идеи философского свободомыслия, вызывавшие со стороны католической иерархии суровые ответные меры. Помпонацци еще не начал свою преподавательскую деятельность, когда 4 мая 1489 года в Падуанском университете, в кафедральном соборе и в церкви св. Антония был обнародован подписанный местным епископом Пьетро Бароцци и инквизитором Маркантонио ди Лендинарой “Декрет против спорящих о единстве интеллекта”. “Зная,— говорилось в нем,— что диспуты обыкновенно смущают души, так что люди то, что они знали как ложное, принимают и защищают как истину... и желая, чтобы и те, кто учатся философии, не отлучались от христианской философии, которая много превыше всех иных, а кто учат, помня, что они философы, не забывали, что они христиане, и не распространяли вместе с пищей философской науки яд дурных диспутов... и, наконец, полагая, что те, что спорят о единстве интеллекта, по той особенно причине спорят, что, отменив как награды за добродетели, так и наказания за пороки, они считают, что смогут свободнее совершать величайшие мерзости,—постановляем, дабы никто из вас под угрозой отлучения, под каковое вы подпадете в случае противодействия, не смел и не вознамерился ни под каким видом публично дискутировать о единстве интеллекта” . Но если трактат “О бессмертии души” вышел в свет, когда Помпонацци было за 50 лет, то отнюдь не из-за осторожности философа. Напротив, обстановка для его издания с каждым годом становилась все менее подходящей. Запрещающий аверроистские споры эдикт епископа Бароцци (1489) касался лишь Падуанского диоцеза, а принятая V Латеранским собором 19 декабря 1513 года булла Льва Х “Апостольского правления” распространялась па весь католический мир. “Поскольку в наши дни сеятель смуты, исконный враг рода человеческого, осмелился посеять и взрастить в поле Божьем некие опаснейшие заблуждения... а именно о природе разумной души, т. е. что она смертна или едина во всех людях, и некоторые безрассудные философы утверждали истинность этого по меньшей мере в философском отношении... мы проклинаем и осуждаем всех, кто утверждает, что разумная душа смертна или едина во всех людях, или хотя бы рассматривает эти суждения как спорные”. “Истина истине не противоречит”,— решительно провозгласили авторы буллы, стремясь положить конец игре с “двоякой истиной”: всем придерживающимся подобных заблуждений собор пригрозил “отвержением и наказанием”, коим подлежали они “как презренные и омерзительные нехристи и еретики”. Не прошло и трех лет, как в Болонье 6 ноября 1516 года был опубликован трактат Пьетро Помпонацци, в котором вопрос о бессмертии души рассматривался “в природных границах, оставив в стороне откровения и чудеса”. Одновременно автор брался ответить и на вопрос о точке зрения Аристотеля, однако очевидно, что истина в естественных (вне постулатов веры) границах если и может совпасть с мнением Стагирита, то никак не сводима к нему. Помпонацци с самого начала выступает в трактате отнюдь не как последовательный перипатетик старого схоластического чекана, его мысль открыта любому рациональному решению и не подвластна авторитету. И совсем не формальным литературным приемом представляется зачин книги. В качестве повода для ее написания автор представляет событие, казалось бы, случайное и сугубо личное: он заболел, и в беседах с навещавшими его друзьями возник вопрос о бессмертии человеческой души. Напомним: автор был в возрасте по тогдашним меркам достаточно пожилом и страдал от тяжкой болезни. Именно в этих серьезных обстоятельствах, когда может быть не исключен смертельный исход, настала пора ясно и твердо высказать свое мнение по важнейшей проблеме нравственной философии. Ответ, данный на вопрос о возможности жизни после смерти, приобретает особые вес н значение, когда звучит на пороге небытия. В сходных, но много более трагических обстоятельствах задавался этим вопросом Джироламо Савонарола: накануне казни, поддавшись сомнениям как дьявольскому искушению, флорентийский пророк искал выход и нашел его в христианском смирении, в надежде на личное бессмертие. В своем трактате Помпонацци исходит из принимаемого им важнейшего положения теории познания Аристотеля: “Если мышление есть некое представление или не может происходить без представления, то и мышление не может существовать без тела”. Если человеческое познание невозможно без чувственных образов, то душа в действиях своих зависит от тела и тесно связана с ним. Она не может ни отвлечься от тела, ни полностью быть им поглощена. Из этого следует вывод, что душа человека “сама по себе” материальна и смертна, а нематериальна и бессмертна она лишь “в известном смысле”. Оговорка эта не имеет ничего общего с религиозным представлением о личном бессмертии: речь идет о способности человека к отвлеченному, абстрактному познанию, не сводимому к чувственным образам, о способности разума к самопознанию. Вывод о смертности души, заключает Помпонапци, “наиболее согласен с разумом и опытом, не предусматривает ничего ни сказочного, ни взятого на веру”. Важнейший довод защитников бессмертия души — идея посмертного воздаяния как гарантия добродетели. Но из смертности души вовсе не следует отказ от нравственности, утверждает Помпонапци. Более того, именно принимающие посмертное воздаяние подрывают мораль, ибо обеспечивают соблюдение нравственного закона исключительно надеждой на будущее вознаграждение и страхом перед посмертными мучениями. Между тем добродетель должна быть предпочтена ради нее самой, ибо в ней самой заключена награда, подобно тому как самым страшным наказанием за грехи является сам порок. Когда люди предпочитают смерть преступлению, то этим “оказывается предпочтение не смерти самой по себе, так как она — ничто, но праведному деянию, хотя за ним следует смерть. Так что, отвергая порок, человек не отвергает жизнь, которая сама по себе — благо, но отвергает порок, следствием которого явилось бы сохранение жизни”. Выступление Помпонацци — пусть и с оговоркой о “природных рамках” — против одного из главных положении религии вызвало гневный протест философствующих инквизиторов вроде Бартоломее да Спины и инквизиторствующих философов вроде Лгостино Нифо, ученика отрекшегося от аверроизма Николетто Верниа. Десятки трактатов-доносов обрушились на голову Перетто. Призывы к расправе не остались без последствий. Книга была публично сожжена венецианским патриархом, папа велел расследовать дело. Но времена Контрреформации еще не наступили — расправиться с известным всей Европе профессором философии не удалось. Лев Х оказался достойным сыном Лоренцо Великолепного, спасшего в свое время от рвения инквизиторов Пико делла Мирандолу: он удовлетворился формальными оговорками в трактате Помпонацци; помогло и заступничество просвещенных кардиналов вроде Пьетро Бембо. Центральная проблема философского наследия Пьетро Помпонацци — соотношение рационального знания и религиозного откровения. Четкое разделение рационального знания и веры отражено в самом построении “Трактата о бессмертии души”: оговорив вначале, что анализ будет вестись с позиций аристотелизма и “в природных границах”, Помпонацци в последней главе своего сочинения провозглашает бессмертие души истинным и неоспоримым с точки зрения веры и в противоположность Фоме Аквинскому и всей школе рационального богословия отказывается искать рациональные доказательства этому положению веры, которое столь же мало нуждается в доказательствах, как и прочие догматы религии — о сотворении мира, о воскресении Христа и т. п. Это позволяет ему в собственно философском рассуждении начисто отвлечься от теологических установлении. Правда, такого рода свобода даже в заранее указанных рамках была категорически запрещена, как мы видели, недавними постановлениями V Латеранского собора. Но рассуждения Помпонацци как будто бы не выходят еще за пределы традиционной “двоякой истины” европейского аверроизма предшествующих столетий. Бросается, однако, в глаза важнейшая особенность трактата Пьетро Помпонацци. “Внутри”, в основном тексте сочинения, заключенного как бы в жесткие рамки декларированной ортодоксии, творится уже нечто с официально-католической точки зрения совершенно невообразимое. Мало того, что рассуждение Перетто развивается там без оглядки на богословие в вопросах чисто философской компетенции, что излагается точка зрения Аристотеля и самого автора (с Аристотелем солидарного, но идущего и своим собственным путем),— предметом рассмотрения оказываются и такие проблемы, которые всегда входили в неоспоримую сферу чисто теологического умозрения. Таковы прежде всего вопросы соотношения нравственности и личного бессмертия, вопросы высшего блага, цели человеческого существования. А главное, предметом рационального философского анализа оказывается и сама религия. Отвечая на возражения своих оппонентов, что если принять смертность души, то почти вся Вселенная окажется введенной в заблуждение, ибо все законы (религии) полагают душу бессмертной, Пьетро Помпонацци воскрешает старинный аргумент о трех обманщиках, бытовавший в аверроистских кругах по меньшей мере со времен императора Фридриха II, “Если нет человека, не подверженного заблуждениям,—читаем мы в четырнадцатой главе трактата,— то не только не грешно, но даже необходимо допустить, что заблуждается либо весь мир, либо, по крайней мере, большая его часть. Ибо, предположив, что существует лишь три религий, а именно Христа, Моисея и Магомета, придется признать, что либо ложны они все, и тогда обманут весь мир, либо ложны хотя бы две из них, и тогда в заблуждении пребывает большая его часть”. Инквизиторы, на протяжении нескольких столетий тщетно искавшие мифическую книгу “О трех обманщиках”, получили наконец первую печатную формулировку основной ее мысли и не преминули этим воспользоваться. Величайшее кощунство увидел в трактате Помпонацци богослов-доминиканец, советник инквизиции Бартоломео да Спина, призвавший изгнать автора “из сообщества добрых людей и осудить вместе с диаволом, отцом всех заблуждений”, если он не покается публично. Автор не покаялся. В “Апологии” он отказался признать себя еретиком; в “Защитной речи, или ответах на возражения Агостино Нифо” отстаивал свое право и даже обязанность точно излагать и толковать в своих сочинениях и лекциях, “что думал Аристотель и что можно сказать на основании естественных начал” независимо от веры. И в последнем обнародованном при жизни сочинении “О питании и росте” он доказывал зависимость человеческого разума от тела, не забыв сделать обязательную оговорку: “Но хотя я вне всяких сомнений считаю, что Аристотель полагал всякую душу делимой и смертной, я говорю, однако же, что из этого правила следует изъять человеческую душу, поскольку Римская церковь твердо придерживается противного. Каковая Римская церковь не нуждается в безделицах философов, ни в человеческом разуме, но основывается на Духе Святом и очевиднейших чудесах”. . Когда писались эти строки, была уже создана книга, специально посвященная как “очевиднейшим чудесам” церкви, так и колдовским действиям ведунов, магов и некромантов — “чудесам” с отрицательным знаком. Не предназначавшийся для печати трактат Пьетро Помпонацци “О причинах естественных явлений или о чародействе” был закончен 16 августа 1520 года. Вопрос, поставленный перед профессором философий Во-лонского университета его собеседником-врачом, всего менее можно назвать? академическим. Охота за ведьмами, распространившаяся в Западной Европе со второй полёвийы XV столетия и особевно усилившаяся после издания “Молота ведьм” Инститориса и Шпренгера и буллы “С величайшим рвением” папы Иннокентия VIII, захватила и Северную Италию. Ведь!” жгли на родине Помпонацци, в его родной Мантуе; в Ферраре, где он некогда преподавал; в Модене, куда приезжал для участия в диспуте. Недалеко от Болоньи находилась гора Патерно, где, по утверждению Бартоломео да Спины, собирались ведьмы, и папа требовал от болонского губернатора оказывать содействие в их розыске местному инквизитору Джироламо да Фаэнца. Горький дым костров доносился до университетских аудиторий. Вопрос о реальности приписываемых ведьмам колдовских деяний был не менее важен, чем вопрос о реальности вполне ортодоксальных христианских чудес. Сомнения в действительности сделок с дьяволом, ночных шабашей, полетов по воздуху, порчи и сглаза приравнивались к совершению самих этих деяний, враждебных церкви и христианскому сообществу. Примерно в то же время, когда Помпонацци работал над трактатом “О причинах естественных явлений”, к вопросу о ведовстве обратился его давний противник и обличитель Бартоломео да Спина. Написанные им сочинения были позднее объединены в сборник под общим названием “Новый молот ведьм”; в них он доказывал реальность ведовства и требовал привлечь к суду инквизиции тех, кто считает рассказываемое ведьмами плодом больного воображения или обмана чувств. Трактат “О причинах естественных явлений” имеет иное строение, нежели сочинение о бессмертии души. Правда, и здесь наличествует ортодоксально-благочестивое обрамление. Но этим дело не ограничивается: теологические аргументы противостоя! философским в самом ходе изложения, сопровождая рассуждение. Идя путем рационального познания и отвлекаясь от теологии, философ считает единственно возможным естественное объяснение загадочных и таинственных явлений. Только “невежественная толпа и грубые люди, не зная, что все это происходит вследствие явных и очевидных причин, относят это к Богу или к демонам”, “верят, что это делается Богом, ангелами или демонами, и считают, что люди, совершающие такие действия, имеют общение с ангелами пли демонами”. Между тем и чудеса, и колдовские действия совершаются “не сверх природы” и “не против природы”, но могут быть “сведены к естественным причинам”; это не сверхъестественные явления, а явления, причины которых не всегда открыты и явны: “Не потому это чудеса, что происходят полностью вопреки природе и помимо порядка движения небесных тел, но потому они именуются чудесами, что необычны и чрезвычайно редки и происходят не по обычному ходу природы, но с весьма долгой периодичностью”. Ссылка на порядок движения небесных тел не случайна в устах наследника падуанской аверроистской традиции, восходящей к философу XIV века Пьетро д'Абано. Вторая важнейшая тема трактата Пьетро Помпонацци — обусловленная движением небесных светил всеобщая закономерность в природе. Общему закону вечного движения, возникновения, изменения и гибели подчинено все в подлунном мире. Все, что имеет начало, имеет и свои периоды подъема и упадка. Не во всех явлениях это легко заметить, особенно сложно в вещах, которые существуют длительное время, “как-то: неодушевленные предметы, реки, моря, города, законы...”. Законы... Так в рамках философии Помпонацци со всеми необходимыми оговорками предметом рационального рассмотрения оказывается религия. И религии не могут избежать общего закона рождения, развития, упадка и гибели. Повинуясь неумолимому закону природы, движению небесных тел, воздействующих на земные дела, и сами боги приходят и уходят, и старый “закон” уступает место новому с рождением новых богов: “А так как смена законов есть величайшее изменение и трудно перейти от привычного к совершенно непривычному, то и необходимо, чтобы для возвышения нового закона происходили необычные, удивительные и потрясающие явления”. Вот почему на много веков вперед появление основателей “новых законов” с уверенностью предсказывается пророками. И чудеса в каждой религии “вначале очень слабы, затем увеличиваются, потом достигают вершины, потом ослабевают, пока не обращаются в ничто”. В этот извечный круговорот (именно круговорот, ибо развития аристотелевский вечный мир не знает “и нет ничего, чему подобного не было в Прошлом и не будет в грядущем: ничего не будет, чего бы не было, и ничего не было, чего не будет вновь”) Пьетро Помпонацци помещает и христианский “закон”, полагая, что христианство уже прошло периоды своего возникновения и подъема и, повинуясь велению рока, приходит в упадок, “отчего ныне все охладели в нашей вере и прекратились чудеса, кроме поддельных и ложных,— ибо видимо близок ее конец”. Так чуткая философская мысль откликнулась на предреформационные настроения в Италии и на первые шаги заальпийской Реформации. Такова неумолимая последовательность рационального хода рассуждений в книге Перётто. Ей противостоят, не опровергая, не отвергая его выводов, ортодоксальные воззрения в виде системы оговорок. При этом характерны оговорки в оговорках: приведя вполне католический довод, Помпонацци тут же снабжает его таким примечанием, которое вею ортодоксию едва ли не сводит на нет. В результате построенное по всем правилам схоластического трактата сочинение приобретает обличье гуманистического диалога, где звучат контрастирующие между собой голоса собеседников и где не всегда можно с уверенностью отождествить автора с одним из них. Помпонацци сомневается — быть может, это главная его черта. Он сомневается в толковании Ааерроэса, в авторитете Аристотеля, в истинах веры, ибо “сомнение вовсе не чуждо науке и никто не достигнет истинного знания, вели не усомнится”. Недаром в лекциях он часто повторял вслед за Сократом: “Я знаю только одно, что и ничего не знаю”. “Против собственного невежества” написал Помпонацци свою последнюю книгу “О фатуме, свободе воли и предопределении”. Это объемистое сочинение (в современном научном издании оно занимает более четырех с половиной сотен страниц) было завершено им сто дней спустя после окончания книги “О причинах естественных явлений”, 25 ноября 1520 года. Здесь нет благочестивого введения; все возможные точки зрения, от атеистической до аристотелевской, от стоической до христианской, рассматриваются наравне и в равной степени подвергаются строгому анализу. Пафос этого последнего крупного трактата Помпонацци — в последовательных попытках построить внутренне не противоречивую философскую систему, которая не могла бы вызвать против себя убедительных возражений. Помпонацци, конечно, не атеист. Существование бога у него не вызывает сомнений. Он подвергает определенной, хотя и не подробной (именно потому, что она представляется ему излишней) критике концепции древних атеистов (Диагора и Протагора) и эпикурейцев. Бытие бога он доказывает ссылкой на порядок и гармонию Вселенной. Бог—двигатель мира; движение небесных тел и царящий в них порядок доказывают существование бога как силы упорядочивающей и провидящей. Проблемы для Помпонацци начинаются дальше — при анализе отношения бога и мира, и прежде всего ответственности бога за царящее в мире зло. Его не устраивает решение, предложенное Цицероном, отрицающим божественное провидение, или перипатетиками, допускающими его для мира природы и отвергающими зависимость от бога индивидуальных явлений и человеческой жизни: “По-моему, гораздо меньшее зло — отвергать в нас свободу воли и оказаться рабами, нежели отвергать провидение и оказаться святотатцами”. Святотатство для него — отказ от признания всеобщего закона, детерминированности этим законом природных явлений и поступков людей. Именно поэтому для него только два варианта оказываются достойными рассмотрения: позиция стоиков, согласно которой в мире царит фатум, нерушимая закономерность, совпадающая с божественным провидением, и позиция христианской религии, соединяющая признание божественного провидения с учением о свободе воли. Такова постановка проблемы: бог существует, божественное провидение существует; стало быть, нет возможности снять с бога ответственность за царящее в мире зло. “Бог или правит, или не правит миром. Если не правит, то какой же он Бог? Если правит, то почему же он правит так жестоко?” — так ставит вопрос стареющий философ (когда писался трактат, ему пошел 59-й год и жить ему оставалось немногим более трех лет), вступая в жестокий спор с богом, с религией, i теологией, с философами, с самим собой. Оба возможных решения должны пройти равно жесткое испытание логикой, проверку на прочность, на свободу от непреодолимых внутренних противоречий. Но, лишенная идеи бессмертия души, религия предстает в этом споре заранее ослабленной и обреченной на поражение. Зло господствует в мире природы и в жизни людей. Оно существовало от века и будет существовать всегда и в природе, и в человеческом обществе, где богатые угнетают бедных, сильные — слабых, где владычествуют тираны, развращающие народ, где “добродетели крайне редки” и “повсюду изобилует зло”, “и не только сейчас это так, но всегда так было, как явствует из всех историй, и так будет всегда”. Мир предстает взору философа в виде безумной “игры богов, подобной игре в мяч у людей”, а бог уподобляется безумному архитектору, который “великими трудами и заботами соорудил некий прекрасный дворец и тотчас же, едва завершив, разрушил свое строение”. Бог, допускающий в мире зло, “оказывается жестоким палачом, наихудшим из всех, несправедливым и полным коварства”. Человек окружен соблазнами, и не бог ли ответствен за грехи людей? “Если Бог все знает и может отвратить заблудшего от его заблуждений, то почему он не делает этого? И почему, если Бог не отвращает от заблуждений, то грех падает не на Бога, а на человека?” Ведь это бог “дал душу, склонную ко греху, и омраченный рассудок соединил со страстями” . А путь добродетели усеян препятствиями, честный человек подвергается повсюду горестям, мучениям и страданиям, “как если бы Бог наказывал людей за то, что они идут стезей добродетели”, между тем как “негодяи окружены почетом, процветают и внушают страх”. Поэтому бог “оказывается подлым обманщиком и лжецом, либо не хочет, чтобы все люди были добродетельны”; он подобен тому, кто отправил своего сына в опасный путь, из которого не вернется и один из тысячи “и дал ему дурных попутчиков, о которых знает, что они погубят его. Так не должно ли почитать такого отца глупым и жестоким? Но тем более можно сказать это о Боге”. А если это так, то “нет нужды в дьяволе и его компании”, “и тогда не нужен иной дьявол и злой искуситель, кроме самого Бога”. Историки атеизма немного найдут подобных высказываний в сочинениях XVI столетия. Но не следует торопиться с выводами. Это ведь только еще вопросы, ответы — впереди, А пока что “потрясена душа, трепещут члены и человек выходит из себя, услышав или подумав такое — о Боге!”. Пока же, следуя путем рациональной философии, оставив в стороне божественное откровение, веру в загробное воздаяние, Пьетро Помпонацци не может оправдать христианского бога. Без ссылок на иррациональные догматы веры христианство не в состоянии оправдать творящееся в мире зло. В “Эпилоге” книги сформулирован итог: “Оставаясь в естественных пределах и насколько позволяет человеческий разум, мне представляется, что из всех приведенных мнений наиболее свободно от противоречий мнение стоиков”. Правда, стоицизм Помпонацци — не повторение античного: он обогащен не только критикой христианства, но и опытом христианской критики социальной несправедливости, гуманистическими поисками гармонии бога, мира и человека. Если в мире царят фатум, природная необходимость, то бог, чье поведение с этой необходимостью отождествляется, воплощает в себе причинно-следственную зависимость детерминированного мира. И тогда не только с бога снимается ответственность за мировое зло, но и само зло получает высшее оправдание в диалектической гармонии мира. Бог “поступает по фатуму и согласно природе”. И зло в мире “существует ради блага Вселенной”, и, “как представляется, нельзя отрицать, что зло способствует украшению Вселенной”. Зло, говорит Помпонацци, “происходит из природы Вселенной, а не от несправедливости Бога”; ибо “так как Вселенная содержит в себе всеобщее совершенство, то в самой ее природе заключены столь великие различия. И то, что в частности и рассматриваемое само по себе представляется несправедливым, рассмотренное в отношении Вселенной, оказывается справедливым... Порядок Вселенной требует таких различий, при том, что нет никакой несправедливости и несоразмерности в божественном провидении”. Итак, в гармонии целого — оправдание частного зла. Это относится не только к природе, но и к человеческому обществу. Социальное неравенство, несправедливость получают таким образом объяснение и оправдание. “Тем, что богатые угнетают бедных, не доказываются несовершенство и жестокость Бога, равно как и тем, что волк пожирает овцу, волка терзают псы, а псов — львы, ибо, хотя по отношению к частному это кажется несправедливым, по отношению к мировому порядку это не представляется таковым. Ведь то, что земледельцы находятся в подчинении у горожан [в примере этом выдает себя гражданин итальянской городской коммуны, потомок мантуанских патрициев и воспитатель венецианских сенаторов! — А. Г.], кажется жестоким, но, если иметь в виду благоустройство государства, это окажется необходимым, и без этого мир не обладал бы совершенством”. Так гневный протест против царящего в мире зла оборачивается апологией существующего порядка. Единственный достойный философа выход — в стоическом соблюдении нравственных принципов, в том, чтобы следовать добродетели, не страшась адских мучений и не надеясь на райское блаженство. В учении о социальной роли религии — ключ к решению вопроса о соотношении веры и знания в философии Пьетро Помпонацци. Благодаря стараниям записывавших его лекции студентов, мы имеем счастливую возможность услышать живой голос Перетто, как называли его друзья и ученики. Летом 1514 года он комментировал “Пролог” Аверроэса к III книге Аристотелевой “Физики”, в центре которого—вопрос о соотношении философской истины и учения “Законов”. Здесь истина прямо провозглашается целью и результатом философского знания: “Цель философа есть истина”, ибо “философ выводит то, что знает, либо из известного нам либо из того, что известно само по себе”. “Законы” же обходятся без разумных доказательств: '“законоучителей он (Аверроэе) называет болтунами, которые не доказывают своих утверждений; это — законоучители трех Законов”. Философы говорят истину, и из-за этого “некоторые Законы запрещают споры, как, например, закон Магомета, и не терпят философов”. Явно имея в виду не мусульман, а недавние постановления Латеранекого собора, Помпонацци продолжает: “И не желают эти законники, чтобы нреиехвдйли диспуты, так как, когда люди слушают споры и узнают истину, которая лучше воспринимается разумом, они подвергают сомнению Законы. Поэтому Законы требуют, чтобы философов изгоняли из государств”. Но если истина — в учении философов, то в “Законе” нет ни истины, ни лжи. Язык “Закона” — это язык притч. “Следует знать,— поясняет Помпонацци,— что притчи — это басенные речи, которые под видом иносказания подразумевают некую истину или благо”. Цель основателя религии (“законодателя”) — не истина, а благо, “улучшение государства или сообщества граждан”. Поэтому “законодателя” нельзя считать и лжецом: он создает притчи не для того, чтобы обмануть людей, но для того, чтобы сделать их добродетельными. Истина философии у Помпонацци иерархична: она предназначена мыслящей элите, тем, кто способен вести себя праведно, не нуждаясь во внешних воздействиях. Бог Помпонацци — безличное начало, являющееся гарантом природного закона. Он не вмешивается в дела людей, не подвластен мольбам и обетам, до него не доносится стон угнетенных, он не карает грешников и не вознаграждает праведников. Это не христианский бог униженных и оскорбленных, а бог философов, приемлющих мировой порядок. Находя резкие и суровые слова для осуждения несправедливости и тирании, Помпонацци вместе с тем coвершенно чужд упованиям на земную справедливость, утопическим планам рационального переустройства общественной жизни. Считая постижение истины уделом разумно мыслящей части общества, он предоставляет “болтунам”-законоучителям воспитание “простого” народа при условии, что они не будут вмешиваться в философские споры. Как философ, он провозглашает истину. Как гражданин, смиряющийся с общественным неравенством, в том числе и в сфере духовной, он признает авторитет католической церкви и заявляет о своем повиновении. Таково было содержание компромисса, не навязанного философу, а предложенного им католицизму. Теология на этот компромисс не пошла. Не случайно среди вдохновителей Тридентского собора был и оппонент Помпонацци доминиканец Бартоломео да Спина; книги Помпонацци, были ли они формально занесены в Индекс запрещенных книг или нет, подвергались преследованиям. Правда, сам Перетто избежал костра: времена еще были не те. Но об угрозе расправы он помнил всегда и постоянно напоминал о ней своим слушателям и читателям. “Государи мои, направо пойдете — будет вам пытка, налево — четвертование” — так в обрезах, заимствованных сразу и из фольклора, и из инквизиторской практики, выражал он в одной из лекций последствия встречающихся затруднений в решении сложных философских проблем и поучал студентов: “В философии верьте тому, что велят вам разумные доказательства, в теологии — тому, что велят богословы и апостолы со всею Римскою церковью, а не то умрете вы смертью поджаренных каштанов”. Ссылками на гонения и казни, которым подвергались философы в древности, пестрят страницы его трактатов. Он знал о судьбе своих предшественников по университетским кафедрам в Падуе и Болонье — мыслителей XIV века Пьетро д'Абано, чей прах был извлечен из могилы и предан огню по приговору инквизиции, и Чекко д'Асколи, сожженного живым. Не мог он не помнить и о преследованиях, которым подвергался Джованни Пико делла Мирандола, да и самому ему довелось услышать немало угроз при жизни, а нечто подобное эксгумации и посмертной казни произошло почти столетие спустя на страницах сатирических “Донесений с Парнаса” Траяно Боккалини, где изображена сцена фантастической расправы с опасным вольнодумцем: “Весь грязный и скверно одетый появился Пьетро Помпонацци Мантуанец, застигнутый за составлением книги, в которой с помощью безумных и софистических доводов тщился доказать, что душа человеческая смертна. Аполлон, не в силах вынести вида этого нечестивца, приказал, чтобы немедля была сожжена его библиотека и чтобы в том же огне спалили этого негодяя... Отчаянно завопил тогда Помпонацци, оправдываясь, что в смертность души он верил только как философ, и тогда Аполлон повелел палачам, чтобы только как философа его и сожгли”. Так Контрреформация покончила с “двоякой истиной” европейского аверроизма. Но имя Пьетро Помпонацци уже успело стать символом свободомыслия не только для его врагов, но и для его последователей. Трактат “О причинах естественных явлений” широко использовался в борьбе правоведов, философов и врачей против охоты на ведьм. Прямым продолжателем и преемником Помпонацци явился Джулио Чезаре Ванини, включивший в свои книги значительные разделы из его сочинений и прямо именовавший Перетто своим наставником. Его воззрения на социальную роль религии развивал Джордано Бруно, их унаследовало и французское Просвещение: не случайно в одном из наиболее радикальных памфлетов XVIII столетия, в анонимном сочинении “Джордано Бруно возрожденныи, или Трактат о народных заблуждениях. Критическое, историческое и философское сочинение в подражание Помпонацци”, вышедшем в свет в 1771 году, в самом названии оказались соединенными имена Ноланца и Перетто. Конкретные научные представления Пьетро Помпонацци, многие из данных им объяснений принадлежат современному ему уровню знаний и предшествующей — античной и средневековой — философской традиции. Его учение о нравственности смертного человека, не нуждающегося во внешних, за пределами земного мира находящихся стимулах достойного поведения, заложило одну из глубочайших основ атеистической морали. Попытка включить человека и бога в единую систему нерушимых природных законов пролагала путь научной и философской революции Нового времени. Великие мыслители не “предвосхищают” будущее и не угадывают его — они его готовят в борении мысли со своим и чужим невежеством, XX столетие вновь и вновь ставит проблемы обоснования человеческой нравственности; в обсуждении ее как религиозных, так и внерелигиозных истоков пусть будет услышан и голос европейского свободомыслия, его доводы нуждаются в серьезном осмыслении. Наша эпоха намного превзошла самые мрачные образцы позднесредневековой “охоты на ведьм”, преуспев в создании иррационального “образа врага” —будь то “жидо-масонский заговор” в идеологии национал-социализма, будь то “враги народа” или “безродные космополиты” сталинских репрессий — для персонификации иррационально трактуемого мирового зла. Все это еще раз убеждает вас в непреходящей актуальности тех попыток трезвого, разумного и “естественного” объяснения мира, над которыми мучился Пьетро Помпонацци. От этих поисков остались не окончательные решения, а поставленные им проблемы, осознание сложнейших и трагических противоречий человеческого бытия, мужественный пример следования своим путем, единственно возможным для честного мыслителя, то постоянство разума, которое составили главное содержание его жизненного подвига и давало ему основание, не впадая в преувеличение, сравнивать тяжкий труд философа с героическим деянием Прометея.
Опубликовано в кн.: Пьетро Помпонацци. Трактаты “О бессмертии души”, “О причинах естественных явлений”/Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. Институт научного атеизма; редкол.: В. И. Гараджа (пред.) и др.— М.: Главная редакция АОН пои ЦК КПСС, 1990.- 312 с.- (Б-ка литературы по атеизму и религии). - С. 5-26.
|